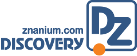сотрудник
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (зам.декана по международным связям)
сотрудник
г. Москва и Московская область, Россия
сотрудник
ФГБОУ ВО «ВВГУ» (лаборатория социально-экономических и политико-правовых исследований, младший научный сотрудник)
сотрудник
Владивосток, Приморский край, Россия
Цель исследования – в контексте национального образа технологического будущего российского общества предложить принципы государственно-правового регулирования отношений на примере отношений с участием искусственного интеллекта. Предмет исследования – принципы государственно-правового регулирования отношений с участием искусственного интеллекта (ИИ) как инструмент государственной политики в сфере технологического развития и цифровой трансформации общества. Методологическая основа исследования опирается на разработки в области общей теории права и государства, отраслевых юридических наук и др. Для формирования принципов государственно-правового регулирования отношений в контексте национального образа технологического будущего российского общества использовались методы правового моделирования и прогнозирования, также задействованы методы индукции и дедукции, анализа и синтеза, аналогии, применяемые для выявления специфики исследуемой темы и позволяющие сделать ряд обобщающих выводов. В результате проведенного исследования были сформулированы принципы нормативно-правового регулирования отношений с участием искусственного интеллекта: принцип служения человеку и обществу, принцип комплементарности системы, принцип ответственности человека, принцип осведомленности. Предложенные принципы направлены на гармонизацию системы правовой фиксации вопросов, связанных с данными технологиями, и минимизацию этико-правовых рисков, в том числе таких как сохранение антропоцентричности и гуманистической сущности права в отношениях человек-машина, справедливое распределение ответственности за вред, причиненный системой искусственного интеллекта, манипуляции человека «машиной», риски размывания и ухода от ответственности. Исследование темы позволило выявить, что основной задачей государственной политики в эпоху кардинальных технологических изменений и цифровой трансформации политической организации является обеспечение гармоничного сочетания инновационного (технологического) и социокультурного (цивилизационного) развития общества. На этом фоне выделяется новое направление, отвечающее данным вызовам и потребностям общественного развития, – технологическая политика государства. В рамках этого нового направления будет сформировано ценностно-смысловое наполнение новых цифровых прав, которое базируется на цивилизационных государственно-правовых основах страны. Полученные в исследовании результаты могут быть полезны при совершенствовании доктринальных и программно-концептуальных правовых актов, создающих национальный образ технологического будущего российского общества, а также при формировании нормативно-правовых положений, касающихся государственно-правового регулирования отношений, в том числе с участием искусственного интеллекта.
государственно-правовое регулирование, образ будущего, технологическая политика, правовая политика, права человека, искусственный интеллект, принципы права, опережающее правотворчество, цифровые технологии
Введение
В последние десятилетия на национальном уровне в рамках реализации государственной политики в сфере технологического развития и цифровой трансформации общества начали появляться разнообразные этические кодексы и стратегические доктрины. На глобальном уровне этот вопрос также уже входит в международную повестку дня [1]. Процесс доктринально-правового и ценностно-нормативного кодирования будет только усиливаться в ближайшее время. Несомненно, что правовая политика государства будет формироваться как на основании все возрастающей технологизации общества, так и с учётом трансформации и усложнения ценностно-смысловых и социально-нормативных систем. Здесь «речь идет в первую очередь о новых элементах этики, о новых моделях работы с различными ценностями… будут политики, связанные с использованием океана, такие же сквозные политики по космосу, и в районе 2050 года мы ожидаем тотальной перезагрузки модели прав человека. Вот та модель прав человека, которая проявилась и сложилась уже 70 лет назад, фактически после Второй мировой войны, она будет крайне существенно пересмотрена в другую модель, которая связана с правом на доступ к чистому воздуху, с правом на доступ к еде, с правом на обеспечение других базовых прав» [2, с. 8]. В этом отношении можно прогнозировать появление принципиально новых юридических институтов и комплексов, а также различных форматов машинного регулирования цифровых форм взаимодействия и алгоритмических систем нормирования и разрешения конфликтов (инжиниринговое нормирование, машинное право, электронное правосудие и т.п.). В то же время обострится конкуренция за доминирование конкретной ценностно-нормативной модели, социотехнических принципов права и духовно-нравственных стандартов, которые будут положены в основание национальных и глобальных систем развития процессов технологизации общественных систем. Очевидно, что любая правовая система базируется на определенных принципах; в свою очередь, принципы права представляют собой основополагающие идеи, руководящие начала, положения, выступающие фундаментом, на котором строится система права. Правовой принцип – это норма широкого диапазона действия, воплощение начал, которые пронизывают все уровни правовой жизни [3, с. 668]. С функциональной точки зрения существенной является способность принципа соучаствовать в создании новых правовых норм. Принцип оправдывает, легитимирует норму-правило, «сопровождает ее по пути» к практическому осуществлению, контролирует ее применение, позволяет дать систематическое толкование, выявить глубинный смысл нормативного требования применительно к ситуации. Принцип права лежит в основе регулирования общественных отношений, фиксирует и одновременно прогнозирует тенденции общественного развития; как нормативно-целевой ориентир формирует будущие модели взаимодействия и направляет развитие отношений в нужное русло, поскольку принцип, как и норма, есть регулятор, работающий в целях упорядочения общественных отношений [4, с. 138]. Современное развитие и состояние отношений с участием искусственного интеллекта, существующее сегодня нормативно-правовое регулирование данной сферы характеризуются фрагментарностью и бессистемностью. Общественные отношения, связанные с искусственным интеллектом и их регулированием, как и в целом с цифровыми технологиями, находятся в фазе их активного и продолжающегося развития, не являются устоявшимися, а типичные модели взаимодействия еще не сформированы Основной проблемой в области упорядочения отношений с участием искусственного интеллекта и других цифровых технологий является попытка механистичного переноса уже существующих моделей регулирования на принципиально иные, ранее не существовавшие отношения. Такой искусственный перенос затруднительно назвать эффективным; он не способствует развитию самих отношений и их регулированию, а, наоборот, может тормозить их. При таких условиях все большую актуальность приобретает опережающее правотворчество. Опережающее (превентивное) правотворчество предполагает принципиальную возможность и способность права опосредовать, «подтягивать» общественные отношения к некоторому состоянию, тем самым оно конструирует и создает новые формы социального взаимодействия. Опережающее правотворчество сущностно характеризуется прогностической составляющей, что является особенно актуальным в наступающую цифровую эпоху, когда отношения находятся в стадии активного развития, а момент, когда отношения сформируются и станут устоявшимися, как видится, вряд ли будет достигнут в обозримом будущем. «Решения, от которых, возможно, зависит жизнь человечества, не должны быть приняты де-факто, после того как случится множество непоправимых вещей, они должны быть тщательно обдуманы и взвешены» [5]. Вышеуказанное предопределяет цель исследования настоящей статьи – в контексте национального образа технологического будущего российского общества предложить принципы государственно-правового регулирования отношений на примере отношений с участием искусственного интеллекта. Предмет исследования – принципы государственно-правового регулирования отношений с участием искусственного интеллекта как инструмент государственной политики в сфере технологического развития и цифровой трансформации общества. Методологическая основа исследования опирается на разработки в области общей теории права и государства, отраслевых юридических наук и др. Для формирования принципов государственно-правового регулирования отношений в контексте национального образа технологического будущего российского общества использовались методы правового моделирования и прогнозирования; для выявления специфики исследуемой темы и выведения ряда обобщающих выводов – методы индукции и дедукции, анализа и синтеза, аналогии.
Основная часть
Предполагается, что принципы, которые будут упорядочивать отношения с участием искусственного интеллекта и моделировать развитие технологий, не должны быть точной копией уже существующих и действующих принципов. Существующие сегодня принципы распространяют свое воздействие и на новые технологии, являются обязательными, поддерживаются силой государства. При этом классические правовые принципы приобретают новые грани и оттенки; происходит преломление уже существующих сегодня общеправовых принципов в отношениях с участием систем ИИ. Так, например, всем известный принцип законности распространяется и на отношения, связанные с системами ИИ; может выражаться в запрограммированном соответствии закону разрабатываемой модели, соблюдении действующего законодательства как самой системой, так и человеком при взаимодействии с системой и другими лицами. Искусственный интеллект, как и другие инновационные технологии, являясь частью глобального процесса цифровизации, существенно меняет устоявшиеся черты социума, приводит к значительным изменениям в жизни общества, а потому требует особого внимания и отдельного подхода. Кроме того, значимость принципов регулирования отношений, связанных с системами ИИ, заключается в том, что они предотвращают разрушение уже существующих правовых принципов, становятся для них дополнительной поддержкой. В связи с вышеизложенным предлагается закрепление следующих принципов нормативно-правового регулирования отношений с участием систем ИИ. Принцип служения человеку и обществу. Данный принцип предполагает, что создание и применение систем ИИ должно быть во благо человеку и обществу; во многом продиктован гуманистическими соображениями. В системе «человек – технологии» технологии существуют для человека, а не наоборот. Правовое государство наших дней основано на верховенстве гуманистического права – права, утверждающего свободу и достоинство личности, которые, безусловно, требуют уважения. В связи с этим, вопервых, должно быть под запретом создание таких систем ИИ, которые способны по собственной инициативе целенаправленно причинять человеку вред; во-вторых, человек не должен умалять человеческое достоинство своим обращением с системами ИИ. Соответственно, системы ИИ должны разрабатываться и работать таким образом, чтобы быть совместимыми с идеалами человеческого достоинства, прав и свобод человека, многообразия культур. Данный принцип перекликается с законами робототехники, сформулированными Айзеком Азимовым: первый закон категорически запрещает роботу вредить людям, второй – приказывает роботу подчиняться людям до тех пор, пока это не станет противоречить первому закону, и, наконец, третий закон приказывает роботу защищать свою жизнь, не нарушая первых двух. Позднее был предложен и нулевой закон – робот не может причинить вред человечеству [6]. Принцип комплементарности (субсидиарности, дополнительности). ИИ должен дополнять, а не заменять человека, должен стать не технологией, которая вытеснит людей, а технологией, которая позволяет им лучше делать свою работу. Учитывая современное состояние развития технологий ИИ, можно с уверенностью сказать, что все существующие системы являются узкоспециализированными, направленными на решение конкретных строго определенных задач, а не на выполнение работ как таковых или социальных ролей. Принцип ответственности человека. Система ИИ всегда должна содержать указание на лицо, ответственное за действия систем ИИ и последствия этих действий (например, разработчик, собственник, оператор и т.п.). Требование, согласно которому у всякого ИИ должно быть лицо, отвечающее за его действия, поможет ограничить те проекты, которые будут нести значительную опасность или противоречить морали и общественной нравственности. Так, например, в свое время был введен и действует уже более двадцати лет полный запрет на эксперименты по клонированию человека. Вопреки некоторой иллюзии полной автономности и самостоятельности система действует так или иначе в интересах конкретных субъектов, поскольку собственного правового интереса у системы нет и быть не может. Данный принцип также связан с фундаментальным общетеоретическим положением о том, что нести юридическую ответственность в любом ее виде может только субъект [7]. Система действует или выдает результат на основе тех алгоритмов и данных, которые в нее заложены, а уже их оценкой и применением занимается человек, т.е. деятельность системы зависит от человека, ее создает человек и влияет на нее тоже он. Учитывая уровень развития технологий и современное видение правовой природы систем ИИ исключительно как объекта, речь о возложении ответственности на системы ИИ на современном этапе и в ближайшем будущем не идет. Это позволяет избежать возможности произвольного ухода от ответственности или ее размывания. В случае ошибок проектирования или недостатков дизайна технологии ответственность будет возложена на создателя, разработчика; при использовании и применении систем ответственными могут быть собственник, владелец, оператор или пользователь; в отдельных ситуациях, например в случае стороннего вмешательства в деятельность системы, – третьи лица, осуществившие такое вмешательство. В связи с этим предлагается рассмотреть закрепление такого варианта ответственности, как коллективная или разделенная ответственность. Она предполагает модель ответственности за действия искусственного интеллекта, в которую были бы включены производитель, программист, пользователь и все прочие вовлеченные лица. В данной ситуации первичной должна быть объективная сторона правонарушения, т.е. нужно выяснить, нарушил ли человек, связанный с деятельностью искусственного интеллекта, свои обязанности по отношению к нему. Такая концепция соответствует принципам справедливости, во всяком случае на данном этапе, поскольку она предполагает личную ответственность лиц, так или иначе связанных с системой искусственного интеллекта. Принцип осведомленности. Этот принцип можно раскрыть как минимум через два аспекта: информированность об опасности систем, порядке их эксплуатации и обязанность уведомлять пользователя о контакте с системой ИИ, а не с человеком. Информированность об опасности предполагает, что в открытом свободном публичном доступе должна находиться вся информация об опасности, в том числе потенциальной, которую любая система ИИ (в особенности в киберфизических формах) несет для человека, общества, окружающей среды и т.д. Кроме того, необходимо определение условий использования и донесение этой информации до пользователей. Создатель, разработчик должны заранее определить, где именно и при каких условиях конкретная система может быть использована, а также ограничения ее использования. Пользователь должен знать, с чем он взаимодействует и как его поведение будет влиять на безопасность системы. Представляется, что уровень информационных обязанностей может различаться в зависимости от степени риска причинения вреда системой ИИ. Обязанность при взаимодействии уведомлять пользователя о контакте с системой ИИ, а не человеком, отражает право пользователя знать, с кем он имеет дело. Это в свою очередь имеет как минимум два важных последствия. С одной стороны, такая обязанность способствует предотвращению манипуляций человека «машиной». Например, уже сейчас известен случай, когда чат-бот обманул человека, чтобы тот решил для него «капчу» (тест, представляющий собой изображение с искажённым текстом, который проверяет, что пользователь – человек, а не компьютерная программа) [8]. Языковая модель наняла человека через сайт по подбору персонала, и на вопрос, не робот ли это, чат-бот притворился человеком с нарушением зрения и попросил помощи. Таким образом, создается обширное поле для различного рода мошенничества и прочих злоупотреблений доверием человека. С другой стороны, уведомление о контакте с системой, а не человеком, позволит избежать рисков размывания или попыток ухода ответственности, как, например, в уголовном деле о покушении на сбыт наркотических веществ, когда подсудимая обжаловала приговор (ссылаясь на отсутствие квалифицирующего признака состава преступления – совершение преступления группой лиц) на основании того, что переписка осуществлялась с искусственным интеллектом, который нанял ее на работу, поручал проведение операций по раскладке и фотографированию тайников [9]. Учитывая пример с чат-ботом, такие ситуации гипотетически могут возникнуть и, скорее всего, в будущем возникнут, хотя практическим решением абсолютного большинства сходных проблем может стать предварительное уведомление пользователя. Применение принципа осведомленности как обязанности ставить в известность о взаимодействии человека с системой ИИ служит для предотвращения манипуляций, предостерегает от введения в заблуждение и размывания ответственности человека за содеянное. В этом плане государственная политика в эпоху кардинальных технологических изменений и цифровой трансформации политической организации должна не только быть комплексной, учитывать различные аспекты технологической эволюции общественной системы, но и обеспечивать гармоничное сочетание инновационного (технологического) и социокультурного (цивилизационного) развития общества. Неслучайно сегодня, в период цифровой трансформации власти, права, экономики, культуры и т.д., оформляется и новое направление, отвечающее данным вызовам и потребностям общественного развития, – технологическая политика государства. В настоящее время технологическая политика государства – это достаточно комплексное и стратегическое направление, которое реализуется не только государством, но и различными гражданскими институциями. Она связана: со стимулированием развития критической технологической инфраструктуры и алгоритмических решений в современном обществе (например, внедрение систем искусственного интеллекта, технологий больших данных, блок-чейн технологий во властно-управленческую деятельность); с обеспечением цивилизационной безопасности, сохранением гуманистической направленности в технологических инновациях; с воспроизводством национальнокультурных оснований общественной системы в ходе цифровой трансформации политических, экономических, правовых и других институтов; с продвижением национальных технологических решений на глобальный и внутренний рынок (экспорт ценностнонормативных моделей, защищающих права, свободы, законные интересы человека и общества, на международный уровень и многое другое). Технологическая политика каждого конкретного государства дает ответ на ряд фундаментальных вопросов общественно-политической реальности: что значит быть человеком в век технологической эволюции; возможно ли общество как социокультурная целостность в эпоху виртуальной коммуникации и алгоритмизации разнообразных интеракций; на каких ценностях и принципах будет развиваться социально-экономическая и общественно-политическая жизнедеятельность в период кардинальных изменений и многие другие вопросы, ответ на которые сегодня вынуждено брать на себя государство. Именно государство как политико-правовая организация общества обеспечивает сегодня ценностно-смысловую и нормативно-регулятивную основу развития процессов цифровизации и технологической трансформации, что значительно страхует человечество от разнообразных цивилизационных опасностей, рисков и угроз. Существенно изменяются и социальная роль, назначение и приоритетные направления деятельности (функции) государства как политического института в цифровом обществе. Кроме того, в рамках национальной политики государства в сфере обеспечения и защиты прав человека и гражданина принимаются различные юридические нормы и правовые институты, закрепляющие право на доступ в цифровую сеть и получение цифровой информации, право на цифровую конфиденциальность, право человека на данные и управление своей цифровой информацией, право на цифровую безопасность, право на цифровую приватность, право на забвение и проч. [10]. Например, ГК РФ признает в ст. 141.1 наличие у граждан цифровых прав, которые они могут осуществлять и которыми могут распоряжаться, «в том числе передача, залог, обременение цифрового права другими способами или ограничение распоряжения цифровым правом возможны только в информационной системе без обращения к третьему лицу», а «если иное не предусмотрено законом, обладателем цифрового права признается лицо, которое в соответствии с правилами информационной системы имеет возможность распоряжаться этим правом» [11]. В то же время сегодня нет пока единства в понимании и толковании «новых цифровых прав и свобод»: являются ли они лишь очередным поколением прав человека или, напротив, интенсивность технологической и цифровой трансформации человечества постепенно формирует принципиально новый каталог прав человека, а также новые международные и национальные формы, инструменты и режимы их обеспечения и защиты. В первом случае, например, в рамках европейско-американского дискурса обосновывается, что доктрина прав человека постоянно развивается, и вслед за тремя поколениями прав и свобод человека 1 , получившими международно-правовое (Всеобщая декларация прав) и государственно-правовое (на конституционно-правовом уровне современных государств) оформление, с середины ХХ в. начинают складываться новые два поколения прав человека – соматические (от древнегреч. sōma, sōmatos – тело, телесный) и цифровые. «Соматические права человека» являются политико-правовой доктриной западного мира и уже получили свое конституционно-правовое оформление в ряде европейских государств. Перечень соматических притязаний человека («соматических прав») включает: «1) право на смерть; 2) права человека относительно его органов и тканей; 3) сексуальные права человека; 4) репродуктивные права человека, как позитивного характера (искусственное оплодотворение), так и негативного характера (аборт, стерилизация, контрацепция); 5) право на перемену пола; 6) право на клонирование как всего организма, так и отдельных органов; 7) право на употребление наркотиков и психотропных веществ» [12]. Более того, к соматическому притязанию человека добавляют также права, связанные с так называемыми свободами в технологическом обновлении тела (внедрение различных технологических новаций, роботизированных устройств, чипов, электронных органов и т.п.) и цифровом бессмертии (выгрузка сознания человека в цифровой мир). Отметим, что большинство стран мира и народов не приемлют данную доктрину соматических прав и свобод, поскольку она подрывает цивилизационные и государственно-правовые основы данных стран, а по большому счету традиционное понимание человека. Безусловно, цифровые права человека сегодня находятся на стадии формирования; их развитие связывается главным образом с защитой человека от разнообразных угроз цифровой трансформации общественных систем (негативные права), а также с правами человека в рамках нового формата социально-экономической (цифровая экономика) и политико-правовой (цифровая политика, цифровое право) организации общества в XXI в. (позитивные права). В первом случае (негативные права) это каталог прав, связанный с защитой человека от злоупотребления цифровыми технологиями в политике, экономике, культуре, сглаживающий неравенство в цифровом развитии и цифровых компетенциях, защите общечеловеческих, национальных и этнокультурных ценностей перед угрозами глобальной цифровизации и развития метавселенных, в том числе обеспечение и защита традиционных прав, свобод и законных интересов в цифровом пространстве (свобода слова, свобода выбора, собственности, в том числе цифровой собственности, например на цифровой домен, цифровой контент и т.д.). Во втором случае (позитивные права) обсуждается фундаментальное право человека на производимые им данные в цифровом пространстве коммуникации, так как данные, которые собирают разнообразные платформы (пользовательская активность, биометрические данные, рациональные решения, когнитивные и эмоциональные предпочтения и проч.), являются главным ресурсом развития цифровой экономической, политической, культурной и других современных социотехнических систем. На основании последних формируются прогнозные и иные поведенческие продукты, управленческие «цифровые паттерны», обучаются и совершенствуются разнообразные системы искусственного интеллекта и т.п. Таким образом, можно уже сегодня прогнозировать формирование в будущем всеобщей декларации цифровых прав и свобод цифрового взаимодействия, в содержание которых будут включаться как вышеобозначенные, так и новые негативные и позитивные права и свободы человека. Главный вопрос здесь будет связан с тем, какие ценностно-нормативные модели и духовно-нравственные стандарты будут положены в основание данного международного документа. Будет ли навязываться всем странам евро-американская модель и ее культурные стандарты или это будет консолидированный, договорной формат интегративной модели, например Евразийского пространства и глобального Юга. Формат такого нового международного порядка и основные принципы равноправного, плюралистичного, но консолидированного мира были предложены Президентом РФ В.В. Путиным 5 октября 2023 г. в рамках заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» [13].
Заключение
Национальный образ технологического будущего российского общества неразрывно связан с особенностями формирования правовой политики государства под влиянием процессов цифровизации и усложнения ценностно-смысловых и социально-нормативных систем. В условиях непрерывно развивающихся отношений с участием искусственного интеллекта необходимо определять регулирующие рамки и вектор развития этих отношений в соответствии с концепцией опережающего правотворчества, поскольку именно при таком подходе возможно избежать негативных эффектов, связанных с непредсказуемым развитием технологий. В этой связи наиболее оптимальным правовым инструментом представляются правовые принципы. Система принципов права обеспечивает предсказуемость практик взаимодействия и стабильность системы права, гарантирует и способствует реализации прав человека. Принципы являются залогом повышения качества правового регулирования, средством достижения высокой эффективности правового поведения. Предложенные в данном исследовании принципы нормативно-правового регулирования отношений с участием искусственного интеллекта направлены на гармонизацию системы правовой фиксации вопросов, связанных с данными технологиями, и минимизацию этико-правовых рисков (сохранение антропоцентричности и гуманистической сущности права в отношениях человек-машина), справедливого распределения ответственности за вред, причиненный системой ИИ, манипуляций человека «машиной» и рисков размывания и ухода от ответственности. Принципы государственно-правового регулирования закладывают основу построения наиболее предпочтительной модели развития общества. Основной задачей государственной политики в эпоху кардинальных технологических изменений и цифровой трансформации политической организации является обеспечение гармоничного сочетания инновационного (технологического) и социокультурного (цивилизационного) развития общества. На этом фоне выделяется новое направление, отвечающее данным вызовам и потребностям общественного развития, – технологическая политика государства. В рамках этого нового направления будет сформировано ценностно-смысловое наполнение новых цифровых прав, которое базируется на цивилизационных государственно-правовых основах страны. Полученные в исследовании результаты могут быть полезны при совершенствовании доктринальных и программно-концептуальных правовых актов, создающих национальный образ технологического будущего российского общества, а также при формировании нормативно-правовых положений, касающихся государственно-правового регулирования отношений, в том числе с участием искусственного интеллекта.
1. Хэ Миндзюнь. О необходимости национального и международного регулирования процессов цифровизации // Международная торговля и торговая политика. 2022. Т. 8, № 2 (30). С. 138–147.
2. Сборник лекций Дмитрия Пескова. Якутск: Якутская республиканская типография им. Ю.А. Гагарина, 2023. 120 с.
3. Мальцев Г.В. Социальные основания права. Москва: Норма, 2007. 800 с. EDN: https://elibrary.ru/SDQPEN
4. Тихомиров Ю.А. Правовое регулирование: теория и практика. Москва: Формула права, 2008. 400 с.
5. Шибаева К.В., Холова Л.Н. Три закона робототехники Айзека Азимова: к вопросу гуманности применения смертоносных автономных систем вооружения на войне // Теология. Философия. Право. 2018. № 4 (8). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/trizakona-robototehniki-ayzeka-azimova-k-voprosu-gumannosti-primeneniya-smertonosnyhavtonomnyh-sistem-vooruzheniya-na-voyne
6. Щитова А.А. Правовое регулирование информационных отношений по использованию систем искусственного интеллекта: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.13 / Московский гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина. Москва, 2022. 225 с. EDN: https://elibrary.ru/AIUCYM
7. Витрук Н.В. Общая теория юридической ответственности: монография. Москва: Изд-во РАП, 2008. 304 с.
8. GPT-4 «обманул» человека, чтобы тот решил для него «капчу» // DTF. URL: https://dtf.ru/life/1691532-gpt-4-obmanul-cheloveka-chtoby-tot-reshil-dlya-nego-kapchuchat-bot-pritvorilsya-slabovidyashchim
9. Апелляционное определение Верховного суда Республики Башкортостан от 18.03.2021 № 22-1024/2021 // КонсультантПлюс (Документ опубликован не был).
10. Умнова И.А., Алферова Е.В., Алешкова Е.А. Цифровое развитие и права человека: монография. Москва: ИНИОН РАН, 2021. 174 с.
11. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 11.03.2024) // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/-document/cons_doc_LAW_5142/
12. Абашидзе А.Х., Солнцев А.М. Соматические права как вызов // Права человека и вызовы XXI века: учеб. пособие / под ред. А.Х. Абашидзе. Москва: РУДН, 2016. 336 с.
13. Владимир Путин принял участие в пленарной сессии юбилейного XХ заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» // Официальный сайт Президента России. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/72444