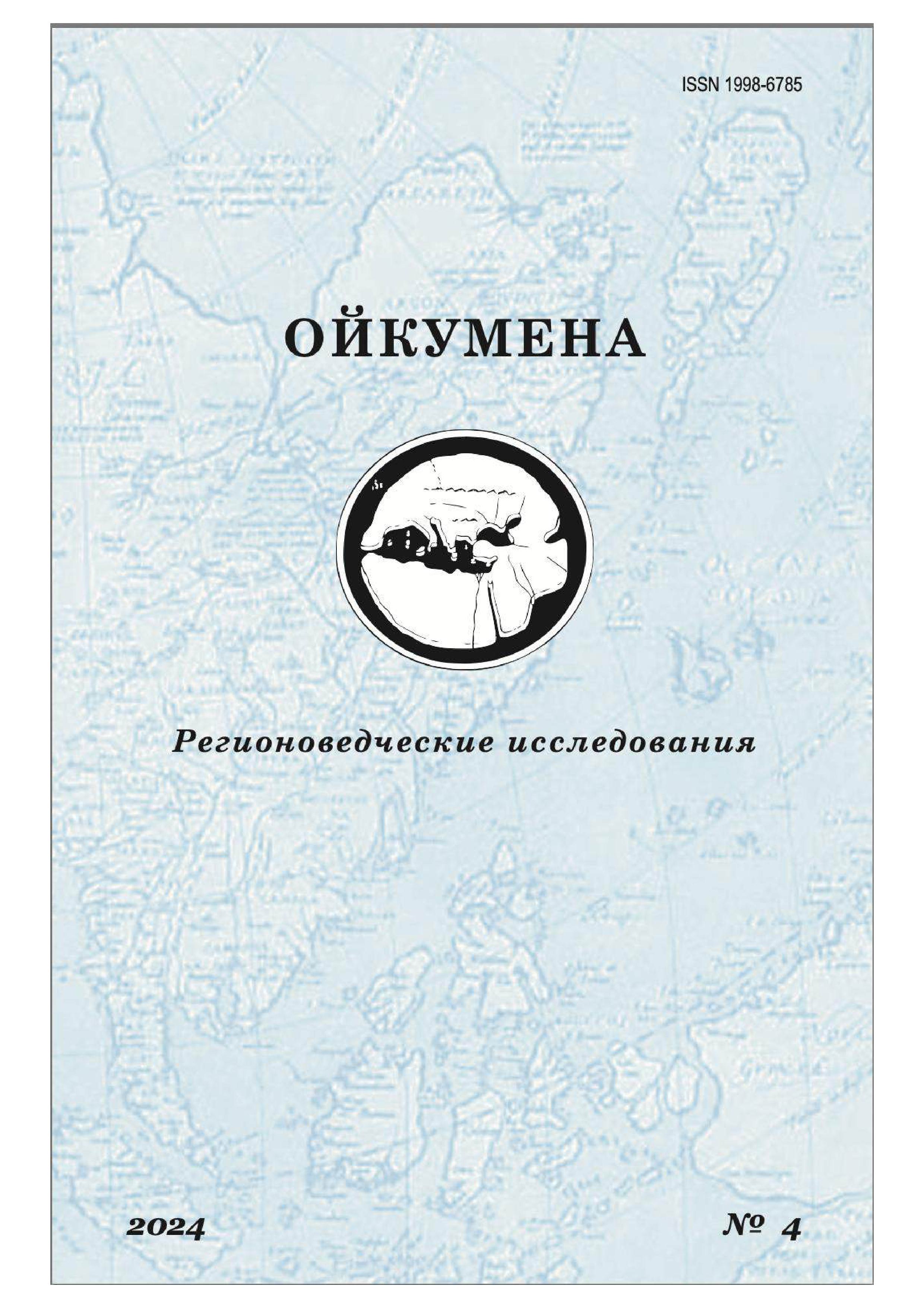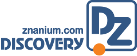Владивосток, Приморский край, Россия
Трансграничные отношения – пожалуй, самый быстро растущий сегмент современной общественной жизни. Темпы пространственной экспансии этих отношений, их проникновения в различные сферы общества далеко опережают скорость развития спровоцированных ими научных исследований. Особым вызовом со стороны трансграничных процессов является и их исключительная внутренняя гетерогенность – стремительно расширяющийся круг их участников, преследующих порой взаимоисключающие цели, для реализации которых изобретаются все новые и все менее поддающиеся какой-либо систематизации практики. Этот вызов обращен сегодня не только к науке, но и к государству, к его способности управлять "темной", плохо проницаемой для бюрократического взгляда, социальной материей, стягивающей вместе как еще недавно казалось отдельные и вполне самодостаточные национальные общества.
Для России, в силу известных исторических причин, трансграничная проблематика стала актуальной позже, чем для многих других стран. Вместе с тем, ввиду тех же причин, динамика вовлечения российского общества в международное взаимодействие в постсоветский период оказалась особенно бурной, взрывообразной. В последнее десятилетие геополитический разрыв между Россией и Западом существенно преобразил эту динамику. На наших глазах имеющий давние корни европоцентризм трансграничных связей России уступает место азиацентризму. Процессы перераспределения товарных, человеческих, денежных и иных потоков на восточные границы страны сопровождаются их правовым и организационным переформатированием, изменением задач, сменой акторов и обновлением конкретных способов межобщественного сотрудничества и конкуренции. Попытку разобраться в нынешних трансграничных процессах, теоретически и эмпирически описать их, и, с помощью исторических и географических сравнений, объяснить многообразие их форм, направлений и результатов редприняли авторы данной рубрики.
Понять специфику отношений на азиатских (прежде всего дальневосточных) границах России помогает их сопоставление с состоянием других участков российского пограничного периметра. Автор первой статьи рубрики – А.Б. Себенцов – представляет пространственную типологию приграничного сотрудничества, критерием которой выступает институциональная основа последнего. Как показывает исследование, в постсоветский период выделенные типы трансграничного взаимодействия и стоящие за ними институты сотрудничества находились в процессе непрерывной и в основном стихийной эволюции, одним из факторов которой стал разворот России на Восток. Автор приходит к выводу о необходимости разработки на основе накопленного институционального опыта российской политики добрососедства, которая должна одновременно быть средством развития приграничных регионов страны и инструментом продвижения во вне ее государственных интересов.
Следующая статья рубрики, подготовленная А.Н. Демьяненко, сфокусирована на дальневосточном макрорегионе как участнике процессов трансграничного регионогенеза. Основываясь на теоретических и методологических разработках российских и зарубежных ученых, автор выявляет природную, геополитическую, экономическую и социально-политическую обусловленность трансграничных регионов, формировавшихся на РДВ с конца XIX в. Различные комбинации этих условий способствовали тому, что процессы регионализации в трех пограничьях макрорегиона – китайском, японском и американском – привели к существенно неодинаковым результатам.
Предметом статьи исследователя из Китая Моу Моин является развитие российско-китайского приграничного сотрудничества на современном этапе. Обращая внимание на рост масштабов этого сотрудничества под влиянием усиливающегося западного давления на обе страны, автор, вместе с
тем, отмечает, что его доминантой на сегодня остается торговля продукцией низких уровней передела. Инертность структуры двустороннего приграничного сотрудничества связана со взаимной рассогласованностью стратегий регионального развития Северо-Восточного Китая и РДВ. В этих условиях реальной движущей силой трансграничных экономических отношений сторон могут быть лишь их центральные правительства.
Иную, антропологическую, перспективу изучения трансграничных связей Китая предлагает работа Н.П. Рыжовой. Информационную базу этого исследования образуют полевые материалы, собранные в приграничных с этой страной районах Монголии, Казахстана, Вьетнама и России. Проведенные интервью с местными жителями позволили автору рассмотреть приграничную торговлю Китая в сравнительном межстрановом ракурсе и сразу на двух уровнях – формальных институтов и неформальных практик населения приграничья. Исследование дает возможность увидеть, как институциональные новации Китая (приграничные торговые зоны) усваивались и внедрялись соседями этой страны. При этом различия политических и неформальных контекстов привели к тому, что воспроизводившиеся сопредельными странами институты в большинстве случаев так и не смогли повторить китайской "истории успеха".
Объектом исследования Д.Д. Бадараева и А.Д. Гомбожапова стали социально-экономические процессы в постсоциалистическом трансграничьи России и Монголии. Динамика процессов с российской (Бурятия) и монгольской стороны границы в этот период имела существенное сходство: в обоих случаях приграничное население возвращалось к традиционным формам хозяйствования и быта. Симметричности этой эволюции содействовали трансграничные миграционные и этнокультурные связи монголов и бурят. Вместе с тем, разный исторический путь России и Монголии, и неодинаковый уровень
развития в двух странах рыночных отношений обусловили появление важных особенностей в адаптации скотоводов по обе стороны границы к постсоциалистическим реалиям.
Сюжеты, вошедшие в представляемую читателям рубрику, конечно, не исчерпывают содержания заявленной в ней темы. За пределами подборки статей остался ряд участков азиатского сектора российских границ и множество практик их негосударственного пересечения и освоения. Тем не менее, хочется надеяться, что авторам рубрики удалось показать главное – удивительную сложность, разнообразие и продуктивность форм трансграничной жизни, которая бесчисленными нитями связывает Россию с обществами Азии.
А. А. Киреев